У никиты болела голова
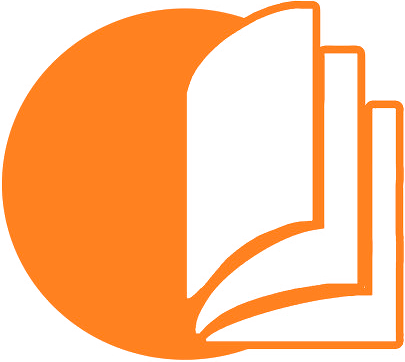
Никита пошел к плотине. Еще издали слышался шум мокрых деревьев, будто вдалеке шумела вода в шлюзах. Качающиеся вершины ветел были закутаны низко летящими рваными облаками. В облаках, среди мотающихся сучьев, взлетали, кружились, кричали горловыми тревожными голосами черные птицы.
Никита стоял, задрав голову, раскрыв рот. Эти птицы будто взялись из сырого, густого ветра, будто их нанесло вместе с тучами, и, цепляясь за шумящие ветлы, они кричали о смутном, о страшном, о радостном,- у Никиты захватывало дыхание, билось сердце.
Это были грачи, прилетевшие с первой весенней бурей на старые места, к разоренным гнездам. Началась весна.
ДОМИК НА КОЛЕСАХ
Три дня дул мокрый ветер, съедая снега. На буграх оголилась черными бороздами пашня. В воздухе пахло талым снегом, навозом и скотиной. Когда отворяли ворота на скотном дворе, коровы выходили к колодцу, тесня друг друга, стуча рогами и громко мыча. Бык Баян свирепо ревел, нюхая весенний ветер. Едва-едва Мишка Коряшонок и Лекся в два кнута загоняли скотину обратно в разбухшие навозом дворы. Отворяли ворота конского загона,- лошади выходили сонные, будто пьяные, с потемневшей, линявшей шерстью, с отвислыми грязными гривами, с раздутыми животами. Веста жеребилась в клети, рядом с конюшней. Без толку суетясь и крича, летали над крышами мокрые галки. На задах, за погребицей, вороны ходили вокруг обнажившейся из-под снега падали. А деревья все шумели, шумели тяжелым, тревожным шумом. Над плотиной, в ветлах, в тучах, летали, кричали грачи.
У Никиты болела голова все эти дни. Сонный, встревоженный, бродил он по двору, по разбухшим дорогам, уходил на гумно, где от початых ометов мякины пахло хлебной пылью и мышами. Ему было мутно и тревожно, точно что-то должно произойти страшное, то, чего нельзя понять и простить. Все земля, животные, скот, птицы перестали быть понятными ему, близкими,- стали чужими, враждебными, зловещими. Что-то должно было случиться,- непонятное, такое грешное, что хоть умри. И все же его, сонного и одурелого от ветра, запаха падали, лошадиных копыт, навоза, рыхлого снега, мучило любопытство, тянуло ко всему этому.
Когда он возвращался домой, мокрый, одичавший, пахнущий собакой, матушка глядела на него внимательно, неласково, осуждающе. Он не понимал, за что сердится она, и это еще более подбавляло мути, мучило Никиту. Он ничего плохого не сделал за эти дни, а все-таки было тревожно, будто он тоже виноват в каком-то ни с того ни с сего начавшемся во всей земле преступлении.
Никита шел вдоль омета, с подветренной стороны. В этом омете еще остались норы, выкопанные рабочими и девками поздней осенью, когда домолачивали последние скирды пшеницы. В норы и пещеры в глубине омета люди залезали спать на ночь. Никита вспомнил, какие он слышал разговоры там, в темноте теплой пахучей соломы. Омет показался ему страшным.
Никита подошел к стоящей невдалеке от гумна, в поле, плугарской будке – дощатому домику на колесах. Дверца его, мотаясь на одной петле, уныло поскрипывала. Домик был пустынный. Никита взобрался в него по лесенке в пять жердочек. Внутри было маленькое окошечко в четыре стеклышка. На полу еще лежал снег. Под крышей, у стены, на полочке еще с прошлой осени валялись изгрызанная деревянная ложка, бутылка из-под постного масла и черенок от ножа. Посвистывал ветер над крышей. Никита стоял и думал, что вот он теперь один-одинешенек, его никто не любит, все на него сердятся. Все на свете – мокрое, черное, зловещее. У него застлало глаза, стало горько: еще бы,- один на всем свете, в пустой будке…
– Господи,- проговорил Никита вполголоса, и сразу по спине побежали холодные мурашки,- дай, господи, чтобы было опять все хорошо. Чтобы мама любила, чтобы я слушался Аркадия Ивановича… Чтобы вышло солнце, выросла трава… Чтобы не кричали грачи так страшно… Чтобы не слышать мне, как ревет бык Баян… Господи, дай, чтобы мне было опять легко…
Никита говорил это, кланяясь и торопливо крестясь. И когда он так помолился, глядя на ложку, бутылку и черенок от ножа,- ему на самом деле стало легче. Он постоял еще немного в этом полутемном домике с крошечным окошком и пошел домой.
Действительно, домик помог: в прихожей, когда Никита раздевался, проходившая мимо матушка взглянула на него, как всегда в эти дни,внимательно строгими серыми глазами и вдруг нежно улыбнулась, провела ладонью Никите по волосам и сказала:
– Ну, что, набегался? Хочешь чаю?
НЕОБЫКНОВЕННОЕ ПОЯВЛЕНИЕ ВАСИЛИЯ НИКИТЬЕВИЧА
Ночью, наконец, хлынул дождь, ливень, и так застучало в окно и по железной крыше, что Никита проснулся, сел в кровати и слушал улыбаясь.
Чудесен шум ночного дождя. “Спи, спи, спи”,- торопливо барабанил он по стеклам, и ветер в темноте порывами рвал тополя перед домом.
Никита перевернул подушку холодной стороной вверх, лег опять и ворочался под вязаным одеялом, устраиваясь как можно удобнее. “Все будет ужасно, ужасно хорошо”,- думал он и проваливался в мягкие теплые облака сна.
К утру дождь прошел, но небо еще было в тяжелые сырых тучах, летевших с юга на север. Никита взглянул в окно и ахнул. От снега не осталось и следа. Широкий двор был покрыт синими, рябившими под ветром лужами. Через лужи, по измятой бурой траве, тянулась навозная, не вся еще съеденная дождем дорога. Разбухшие лиловые ветви тополей трепались весело и бойко. С юга между разорванных туч появился и со страшной быстротой летел на усадьбу ослепительный лазурный клочок неба.
За чаем матушка была взволнована и все время поглядывала на окна.
– Пятый день нет почты,- сказала она Аркадию Ивановичу,- я ничего не понимаю… Вот – дождался половодья, теперь все дороги станут на две недели… Такое легкомыслие, ужасно!
Никита понял, что матушка говорила про отца,- его ждали теперь со дня на день. Аркадий Иванович пошел разговаривать с приказчиком,– нельзя ли послать за почтой верхового? – но почти тотчас же вернулся в столовую и сказал громким, каким-то особенным голосом:
– Господа, что делается!.. Идите слушать,- воды шумят.
Никита распахнул дверь на крыльцо. Весь острый, чистый воздух был полон мягким и сильным шумом падающей воды. Это множество снеговых ручьев по всем бороздам, канавам и водомоинам бежало в овражки. Полные до краев овраги гнали вешние воды в реку. Ломая лед, река выходила из берегов, крутила льдины, выдранные с корнем кусты, шла высоко через плотину и падала в омуты.
Источник
Домик на колесах
Три дня дул мокрый ветер, съедая снега. На буграх оголилась черными бороздами пашня. В воздухе пахло талым снегом, навозом и скотиной. Когда отворяли ворота на скотном дворе, коровы выходили к колодцу, тесня друг друга, стуча рогами и громко мыча. Бык Баян свирепо ревел, нюхая весенний ветер. Едва-едва Мишка Коряшонок и Лекся в два кнута загоняли скотину обратно в разбухшие навозом дворы. Отворяли ворота конского загона, — лошади выходили сонные, будто пьяные, с потемневшей, линявшей шерстью, с отвислыми грязными гривами, с раздутыми животами. Веста жеребилась в клети, рядом с конюшней. Без толку суетясь и крича, летали над крышами мокрые галки. На задах, за погребицей, вороны ходили вокруг обнажившейся из-под снега падали. А деревья все шумели, шумели тяжелым, тревожным шумом. Над плотиной, в ветлах, в тучах, летали, кричали грачи.
У Никиты болела голова все эти дни. Сонный, встревоженный, бродил он по двору, по разбухшим дорогам, уходил на гумно, где от початых ометов мякины пахло хлебной пылью и мышами. Ему было мутно и тревожно, точно что-то должно произойти страшное, то, чего нельзя понять и простить. Все — земля, животные, скот, птицы перестали быть понятными ему, близкими, — стали чужими, враждебными, зловещими. Что-то должно было случиться, — непонятное, такое грешное, что хоть умри. И все же его, сонного и одурелого от ветра, запаха падали, лошадиных копыт, навоза, рыхлого снега, мучило любопытство, тянуло ко всему этому.
Когда он возвращался домой, мокрый, одичавший, пахнущий собакой, матушка глядела на него внимательно, неласково, осуждающе. Он не понимал, за что сердится она, и это еще более подбавляло мути, мучило Никиту. Он ничего плохого не сделал за эти дни, а все-таки было тревожно, будто он тоже виноват в каком-то ни с того ни с сего начавшемся во всей земле преступлении.
Никита шел вдоль омета, с подветренной стороны. В этом омете еще остались норы, выкопанные рабочими и девками поздней осенью, когда домолачивали последние скирды пшеницы. В норы и пещеры в глубине омета люди залезали спать на ночь. Никита вспомнил, какие он слышал разговоры там, в темноте теплой пахучей соломы. Омет показался ему страшным.
Никита подошел к стоящей невдалеке от гумна, в поле, плугарской будке — дощатому домику на колесах. Дверца его, мотаясь на одной петле, уныло поскрипывала. Домик был пустынный. Никита взобрался в него по лесенке в пять жердочек. Внутри было маленькое окошечко в четыре стеклышка. На полу еще лежал снег. Под крышей, у стены, на полочке еще с прошлой осени валялись изгрызанная деревянная ложка, бутылка из-под постного масла и черенок от ножа. Посвистывал ветер над крышей. Никита стоял и думал, что вот он теперь один-одинешенек, его никто не любит, все на него сердятся. Все на свете — мокрое, черное, зловещее. У него застлало глаза, стало горько: еще бы, — один на всем свете, в пустой будке…
— Господи, — проговорил Никита вполголоса, и сразу по спине побежали холодные мурашки, — дай, господи, чтобы было опять все хорошо. Чтобы мама любила, чтобы я слушался Аркадия Ивановича… Чтобы вышло солнце, выросла трава… Чтобы не кричали грачи так страшно… Чтобы не слышать мне, как ревет бык Баян… Господи, дай, чтобы мне было опять легко…
Никита говорил это, кланяясь и торопливо крестясь. И когда он так помолился, глядя на ложку, бутылку и черенок от ножа, — ему на самом деле стало легче. Он постоял еще немного в этом полутемном домике с крошечным окошком и пошел домой.
Действительно, домик помог: в прихожей, когда Никита раздевался, проходившая мимо матушка взглянула на него, как всегда в эти дни, — внимательно строгими серыми глазами и вдруг нежно улыбнулась, провела ладонью Никите по волосам и сказала:
— Ну, что, набегался? Хочешь чаю?
Источник
Никита пошел к плотине. Еще издали слышался шум мокрых деревьев, будто вдалеке шумела вода в шлюзах. Качающиеся вершины ветел были закутаны низко летящими рваными облаками. В облаках, среди мотающихся сучьев, взлетали, кружились, кричали горловыми тревожными голосами черные птицы.
Никита стоял, задрав голову, раскрыв рот. Эти птицы будто взялись из сырого, густого ветра, будто их нанесло вместе с тучами, и, цепляясь за шумящие ветлы, они кричали о смутном, о страшном, о радостном,- у Никиты захватывало дыхание, билось сердце.
Это были грачи, прилетевшие с первой весенней бурей на старые места, к разоренным гнездам. Началась весна.
ДОМИК НА КОЛЕСАХ
Три дня дул мокрый ветер, съедая снега. На буграх оголилась черными бороздами пашня. В воздухе пахло талым снегом, навозом и скотиной. Когда отворяли ворота на скотном дворе, коровы выходили к колодцу, тесня друг друга, стуча рогами и громко мыча. Бык Баян свирепо ревел, нюхая весенний ветер. Едва-едва Мишка Коряшонок и Лекся в два кнута загоняли скотину обратно в разбухшие навозом дворы. Отворяли ворота конского загона,- лошади выходили сонные, будто пьяные, с потемневшей, линявшей шерстью, с отвислыми грязными гривами, с раздутыми животами. Веста жеребилась в клети, рядом с конюшней. Без толку суетясь и крича, летали над крышами мокрые галки. На задах, за погребицей, вороны ходили вокруг обнажившейся из-под снега падали. А деревья все шумели, шумели тяжелым, тревожным шумом. Над плотиной, в ветлах, в тучах, летали, кричали грачи.
У Никиты болела голова все эти дни. Сонный, встревоженный, бродил он по двору, по разбухшим дорогам, уходил на гумно, где от початых ометов мякины пахло хлебной пылью и мышами. Ему было мутно и тревожно, точно что-то должно произойти страшное, то, чего нельзя понять и простить. Все земля, животные, скот, птицы перестали быть понятными ему, близкими,- стали чужими, враждебными, зловещими. Что-то должно было случиться,- непонятное, такое грешное, что хоть умри. И все же его, сонного и одурелого от ветра, запаха падали, лошадиных копыт, навоза, рыхлого снега, мучило любопытство, тянуло ко всему этому.
Когда он возвращался домой, мокрый, одичавший, пахнущий собакой, матушка глядела на него внимательно, неласково, осуждающе. Он не понимал, за что сердится она, и это еще более подбавляло мути, мучило Никиту. Он ничего плохого не сделал за эти дни, а все-таки было тревожно, будто он тоже виноват в каком-то ни с того ни с сего начавшемся во всей земле преступлении.
Никита шел вдоль омета, с подветренной стороны. В этом омете еще остались норы, выкопанные рабочими и девками поздней осенью, когда домолачивали последние скирды пшеницы. В норы и пещеры в глубине омета люди залезали спать на ночь. Никита вспомнил, какие он слышал разговоры там, в темноте теплой пахучей соломы. Омет показался ему страшным.
Никита подошел к стоящей невдалеке от гумна, в поле, плугарской будке – дощатому домику на колесах. Дверца его, мотаясь на одной петле, уныло поскрипывала. Домик был пустынный. Никита взобрался в него по лесенке в пять жердочек. Внутри было маленькое окошечко в четыре стеклышка. На полу еще лежал снег. Под крышей, у стены, на полочке еще с прошлой осени валялись изгрызанная деревянная ложка, бутылка из-под постного масла и черенок от ножа. Посвистывал ветер над крышей. Никита стоял и думал, что вот он теперь один-одинешенек, его никто не любит, все на него сердятся. Все на свете – мокрое, черное, зловещее. У него застлало глаза, стало горько: еще бы,- один на всем свете, в пустой будке…
– Господи,- проговорил Никита вполголоса, и сразу по спине побежали холодные мурашки,- дай, господи, чтобы было опять все хорошо. Чтобы мама любила, чтобы я слушался Аркадия Ивановича… Чтобы вышло солнце, выросла трава… Чтобы не кричали грачи так страшно… Чтобы не слышать мне, как ревет бык Баян… Господи, дай, чтобы мне было опять легко…
Никита говорил это, кланяясь и торопливо крестясь. И когда он так помолился, глядя на ложку, бутылку и черенок от ножа,- ему на самом деле стало легче. Он постоял еще немного в этом полутемном домике с крошечным окошком и пошел домой.
Действительно, домик помог: в прихожей, когда Никита раздевался, проходившая мимо матушка взглянула на него, как всегда в эти дни,внимательно строгими серыми глазами и вдруг нежно улыбнулась, провела ладонью Никите по волосам и сказала:
– Ну, что, набегался? Хочешь чаю?
НЕОБЫКНОВЕННОЕ ПОЯВЛЕНИЕ ВАСИЛИЯ НИКИТЬЕВИЧА
Ночью, наконец, хлынул дождь, ливень, и так застучало в окно и по железной крыше, что Никита проснулся, сел в кровати и слушал улыбаясь.
Чудесен шум ночного дождя. “Спи, спи, спи”,- торопливо барабанил он по стеклам, и ветер в темноте порывами рвал тополя перед домом.
Никита перевернул подушку холодной стороной вверх, лег опять и ворочался под вязаным одеялом, устраиваясь как можно удобнее. “Все будет ужасно, ужасно хорошо”,- думал он и проваливался в мягкие теплые облака сна.
К утру дождь прошел, но небо еще было в тяжелые сырых тучах, летевших с юга на север. Никита взглянул в окно и ахнул. От снега не осталось и следа. Широкий двор был покрыт синими, рябившими под ветром лужами. Через лужи, по измятой бурой траве, тянулась навозная, не вся еще съеденная дождем дорога. Разбухшие лиловые ветви тополей трепались весело и бойко. С юга между разорванных туч появился и со страшной быстротой летел на усадьбу ослепительный лазурный клочок неба.
За чаем матушка была взволнована и все время поглядывала на окна.
– Пятый день нет почты,- сказала она Аркадию Ивановичу,- я ничего не понимаю… Вот – дождался половодья, теперь все дороги станут на две недели… Такое легкомыслие, ужасно!
Никита понял, что матушка говорила про отца,- его ждали теперь со дня на день. Аркадий Иванович пошел разговаривать с приказчиком,– нельзя ли послать за почтой верхового? – но почти тотчас же вернулся в столовую и сказал громким, каким-то особенным голосом:
– Господа, что делается!.. Идите слушать,- воды шумят.
Никита распахнул дверь на крыльцо. Весь острый, чистый воздух был полон мягким и сильным шумом падающей воды. Это множество снеговых ручьев по всем бороздам, канавам и водомоинам бежало в овражки. Полные до краев овраги гнали вешние воды в реку. Ломая лед, река выходила из берегов, крутила льдины, выдранные с корнем кусты, шла высоко через плотину и падала в омуты.
Источник
Василий Никитьевич послал обоз с пшеницей в Самару и сам выехал на следующий день. Перед отъездом у него были большие разговоры с матушкой. Она ждала от него письма.
Через неделю Василий Никитьевич писал:
«Хлеб я продал, представь — удачно, дороже, чем Медведев. Дело с наследством, как и надо было ожидать, не подвинулось ни на шаг. Поэтому, само собою, напрашивается второе решение, которому ты так противилась, милая Саша. Не жить же нам врозь еще и эту зиму. Я советую торопиться с отъездом, так как занятия в гимназии уже начались. Только в виде отдельного исключения Никите будет разрешено держать вступительный экзамен во второй класс. Между прочим, мне предлагают две изумительные китайские вазы — это для нашей городской квартиры; только страх, что ты рассердишься, удерживает пока меня от покупки».
Матушка колебалась недолго. Тревога за нахождение в руках Василия Никитьевича больших денег, а в особенности опасность покупки им никому на свете не нужных китайских ваз заставили Александру Леонтьевну собраться в три дня. Нужная для города мебель, большие сундуки, бочонки с засолом и живность матушка отправляла с обозом. Сама же налегке, на двух тройках, с Никитой, Аркадием Ивановичем и Василисой-кухаркой выехала вперед. День был серый и ветреный. Кругом пустынные жнивья и пашни. Матушка жалела лошадей, ехала трусцой. В Колдыбани заночевали на постоялом дворе. На другой день, к обеду, из-за плоского края степи, из серой мглы поднялись купола церквей, трубы паровых мельниц. Матушка молчала: не любила города, городской жизни. Аркадий Иванович от нетерпения покусывал бородку. Долго ехали мимо салотопенных вонючих заводов, мимо складов леса, миновали грязную слободу с кабаками и бакалейными лавками, переехали широкий мост, где по ночам шалили слободские ребята, горчичники; вот мрачные бревенчатые амбары на крутом берегу реки Самарки, — усталые лошади поднялись в гору, и колеса загремели по мостовой. Чисто одетые прохожие с удивлением оглядывались на залепленные грязью экипажи. Никите стало казаться, что обе коляски неуклюжи и смешны, что лошади — разномастные, деревенские, — хоть бы своротить с главной улицы! Вот мимо, сильно цокая подковами, пролетел вороной рысак, запряженный в лакированный шарабан.
— Сергей Иванович, что вы так едете, поскорее, — сказал Никита…
— И так доедем.
Сергей Иванович сидел степенно и строго на козлах, придерживая тройку рысцой. Наконец свернули в боковую улицу, проехали мимо пожарной каланчи, где у калитки стоял мордастый парень в греческом шлеме, и остановились у белого одноэтажного дома с чугунным через весь тротуар крыльцом. В окошке появилось радостное лицо Василия Никитьевича. Он замахал руками, исчез и через минуту сам открыл парадное.
Никита вбежал в дом первым. В небольшом, оклеенном белым, совершенно пустом зале было светло, пахло масляной краской, на блестящем крашеном полу у стены стояли две китайские вазы, похожие на умывальные кувшины. В конце зала, в арке с белыми колонками, отражавшимися в полу, появилась девочка в коричневом платьице. Руки ее были заложены под белый фартучек, желтые башмачки тоже отражались в полу. Волосы были зачесаны в косу, за ушами на затылке черный бант. Синие глаза глядели строго, даже немножко прищурились. Это была Лиля. Никита стоял посреди зала, прилип к полу. Должно быть, Лиля глядела на него точно так же, как на главной улице прохожие глядели на сосновские тарантасы.
— Письмо мое получили? — спросила она. Никита кивнул ей. — Где оно? Отдайте сию минуту.
Хотя письма при себе не было, Никита все же пошарил в кармане. Лиля внимательно и сердито глядела ему в глаза…
— Я хотел ответить, но… — пробормотал Никита.
— Где оно?
— В чемодане.
— Если вы его сегодня же не отдадите, — между нами все кончено… Я очень раскаиваюсь, что написала вам… Теперь я поступила в первый класс гимназии.
Она поджала губы и стала на цыпочки. Только сейчас Никита догадался: на лиловенькое письмо он ведь не ответил… Он проглотил слюни, отлепил ноги от зеркального пола… Лиля сейчас же опять спрятала руки под фартучек — носик у нее поднялся. От презрения длинные ресницы совсем закрылись.
— Простите меня, — проговорил Никита, — я ужасно, ужасно… Это все лошади, жнитво, молотьба, Мишка Коряшонок…
Он побагровел и опустил голову. Лиля молчала. Он почувствовал к себе отвращение, вроде как к коровьей лепешке. Но в это время в прихожей загудел голос Анны Аполлосовны, раздались приветствия, поцелуи, зазвучали тяжелые шаги кучеров, вносивших чемоданы… Лиля сердито, быстро прошептала:
— Нас видят… Вы невозможны… Примите веселый вид… может быть, я вас прощу на этот раз…
И она побежала в прихожую. Оттуда по пустым гулким комнатам зазвенел ее тоненький голос:
— Здравствуйте, тетя Саша, с приездом!
Так начался первый день новой жизни. Вместо спокойного, радостного деревенского раздолья — семь тесноватых, необжитых комнат, за окном громыхающие по булыжнику ломовики и спешащие, одетые все, как земский врач из Пестравки, Вериносов, озабоченные люди бегут, прикрывая рот воротниками от ветра, несущего бумажки и пыль. Суета, шум, взволнованные разговоры. Даже часы шли здесь иначе, — летели. Никита и Аркадий Иванович устраивали Никитину комнату, — расставляли мебель и книги, вешали занавески. В сумерки пришел Виктор, прямо из гимназии, рассказал, что пятиклассники курят в уборной и что учитель арифметики у них в классе приклеивался к стулу, вымазанному гуммиарабиком. Виктор был независимый и рассеянный. Выпросил у Никиты перочинный нож с двенадцатью лезвиями и ушел «к одному товарищу, — ты его не знаешь», — играть в перышки.
В сумерки Никита сидел у окна. Закат за городом был все тот же деревенский. Но Никита, как Желтухин за марлей, чувствовал себя пойманным пленником, чужим — точь-в-точь Желтухин. В комнату вошел Аркадий Иванович, в пальто и в шапке, в руке он держал чистый носовой платок, распространяющий запах одеколона.
— Я ухожу, вернусь часам к девяти.
— Вы куда уходите?
— Туда, где меня еще нет. — Он хохотнул. — Что, брат, как тебя Лиля-то приняла, — прямо в вилы… Ничего, обтешешься. И даже это отчасти хорошо деревенского жирку спустить… — Он повернулся на каблуке и вышел. За один день сделался совсем другим человеком.
Этой ночью Никита видел во сне, будто он в синем мундире с серебряными пуговицами стоит перед Лилей и говорит сурово:
— Вот ваше письмо, возьмите.
Но на этих словах он просыпался и снова видел, как идет по отсвечивающему полу и говорит Лиле:
— Возьмите ваше письмо.
У Лили длинные ресницы поднимались и опускались, независимый носик был гордый и чужой, но вот-вот и носик и все лицо перестанут быть чужими и рассмеются…
Он просыпался, оглядывался, — странный свет уличного фонаря лежал на стене… И снова Никите снилось то же самое. Никогда наяву он так не любил эту непонятную девочку…
Источник